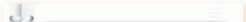К тому же и самое умолчание это, во всяком случае у Ксенофонта, не является столь бесспорным, как это выглядит у Прентиса. Трудно также понять, почему на счет тенденциозных измышлений проафинской традиции следует отнести не только всякие рассказывавшиеся о Аисандре «гнусные истории» (ugly stories), включая и о манипуляциях с оракулами, но и все предание о разрабатывавшемся им плане политической реформы: не слишком ли много для того, чтобы опорочить память одного человека?
Не многим более убедительным выглядит и построение Смита, который, исходя из правильного постулата о соответствии политики Лисандра официальному империалистскому курсу Спарты, сделал попытку (отчасти в развитие взглядов Прентиса) опровергнуть сложившееся уже в древности и принятое новейшей историографией представление о конфликте между Лисандром и спартанской общиной и обусловленном этим падении всесильного полководца.
Вообще, невзирая на историографическую закономерность и верность некоторых исходных установок, предпринятый Прентисом и Смитом пересмотр установившихся представлений нельзя признать плодотворным, ибо, подчеркивая в духе гиперкритицизма недостоверность или ненадежность традиции, он закрывал путь к конструктивному, исполненному идейного смысла исследованию. Вот почему вскоре обнаружился поворот к прежним методам позитивной, политически заостренной интерпретации. Так, Д. Лотце, указывая на традиционность ряда моментов в политической деятельности Лисандра, отказываясь от представления о его решительном «падении» и от прямолинейной трактовки его как предтечи эллинизма, все же признает и новаторство Лисандра (в частности, в установлении системы декархий), и наличие известной трагедии, известного несоответствия если и не между личностью и государством, как это было в случае с Алкивиадом, то между действиями и целями самого Лисандра, чья энергичная новаторская политика была направлена на то, чтобы закрепить господство в быстро развивающемся греческом мире за отсталой, консервативной Спартой. |