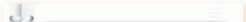Но, может быть, прав К. Ю. Белох, который считает, что у Алкивиада просто не хватило мужества — в 407 г. так же, как в 415, и он упустил случай, который больше не повторился?22 Трудно поверить, чтобы у человека, который неоднократно отваживался на самые рискованные предприятия, на этот раз не хватило решимости. Скорее дело объяснялось другим — сознанием того, сколь мало шансов имелось у человека, стремившегося к тиранической власти в Афинах, добиться здесь сколько-нибудь значительного, прочного успеха.
Действительно, в городе со столь сильными полисными и демократическими традициями народная масса, которая скорее шла за демагогом, метящим в тираны, могла лишь временно и, так сказать, платонически загореться идеей тирании, а на самом деле имела в своем распоряжении достаточно конституционных средств, чтобы оказывать давление на полисную верхушку в нужном для себя направлении. С другой стороны, и афинское войско еще не превратилось окончательно в наемную армию, утратившую связь с народом и безразличную к судьбам государства; в нем имелось много офицеров, достаточно преданных республике или достаточно самостоятельных, чтобы не стать слепыми орудиями нелояльного командующего. Положиться совершенно на такое войско Алкивиад не мог, как не мог апеллировать к нему и в 415 г., когда его отзывали на суд в Афины. Напротив, самоуправство (или представление о самоуправстве) Алкивиада довольно скоро вызвало реакцию недовольства и содействовало падению, казалось бы, незыблемого авторитета полководца.
И наконец, — и это отнюдь не последнее — ситуация в Афинах в 407 г., хотя и напряженная, была далеко еще не столь критическая, как в 412—411 или позднее, в 404—403 гг. Парадокс состоял в том, что как раз успехи Алкивиада в 411—408 гг. значительно укрепили позиции афинского государства, и эта стабилизация сузила возможности для авантюрных выступлений честолюбцев. Алкивиаду с его умом, с его знанием политической действительности в Афинах это должно было быть понятно более чем кому-либо. |